ГАЙКА МИТИЧ
#дисфория_дайджест
- Наличие двух живых людей;
- Необходимость читать;
- Необходимость писать ответ.
В конце концов, если поэзия – это действие, зачем заходить дальше концепта?
- Гайка
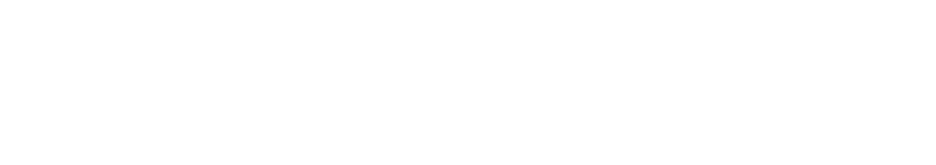
I
Самолёты не водят детей на прогулку, потому что их дети — это другие маршруты.
Жёлтая птица, что лимоны высиживает, — это канарейка, забывшая слова своей песни.
Вертолёт мёд собирать научит пчела-металлистка с лопастями вместо крыл.
Ясный месяц хранит свою муку в тех тучах, из которых пекут пироги для снов.
II
Спроси о времени у тишины между двумя ударами сердца.
Французские весны находят листву в старых письмах и замшелых камнях.
Слепой укроется в улье своего собственного страха, и пчёлы примут его за соты.
Когда желтизна иссякнет, мы выпечем хлеб из пепла багровых закатов.
III
Роза нага — её костюм это лишь аромат, который она сбрасывает на рассвете.
Деревья таят сиянье корней, потому что иначе мы ослепнем от их красоты.
Слова раскания автомобиля слышны в скрипе тормозов перед пропастью.
Нет тоскливее поезда, застывшего под дождём; он — забытая пунктирная линия на карте.
IV
На небе ровно столько церквей, сколько звёзд, в которые кто-то верил.
Акула не трогает сирен, ибо боится их песен больше, чем они — её зубов.
Дым беседует с тучей о бренности всех форм.
Надежды надо кропить росой, иначе они сгорят на солнце обыденности.
V
У черепахи под горбом — карта всех океанов, которые она не успела пересечь.
Верблюд шепчется с апельсином о жажде.
В Зарослях Прошлого листвы больше, но она вся — из сухих чернил.
Листва убивает себя, ощутив желтизну, от стыда за неизбежную измену зелени.
VI
Прорехи в сомбреро ночи — это звёзды. В них смотрит кто-то с обратной стороны.
Старуха-зола шепчет: «Всё, что горело, станет мной. И это — покой».
Тучи веселеют от чужих слёз, ибо они — губки, впитывающие горе.
Пестики солнца пылают во мраке затменья для тех, кто помнит о свете с закрытыми глазами.
В сутках ровно столько пчёл, сколько не заданных вопросов.
VII
Мир голубя — это мир, но видимый под углом 360 градусов страха.
Тигр — это не война. Война — это тигр в клетке из человеческих костей.
Географию смерти преподаёт профессор, который сам никогда не был за её границами.
Ласточки, опоздавшие в школу, становятся стрижами.
Прозрачные письма на небе — это облака. Их пишет ветер и никто не может прочесть.
VIII
Вулкан злит память о том времени, когда он был просто холмом.
Колумб не открыл Испанию, потому что искал не её, а самого себя.
У кошки ровно девять вопросов. Десятый — её хвост.
Невыплаканные слёзы не спят в озёрах. Они текут под землёй, питая корни печали.
IX
Вчерашнее солнце — то же, но его пламя уже стало историей.
Тучи thanks thanks thanks благодарят, проливаясь дождём.
Непогода пришла с севера Отчаяния, где ткачихи вплетают чёрные нити в полотно.
Старые имена лежат на дне памяти, как изюм в кексе, который уже не испечь.
Дональды, Клоринды и Эдувигис отлетели на планету «Архив Забытых Героев».
X
Через сто лет поляки скажут про твою шляпу: «В ней была буря».
А те, кто крови твоей не знал, скажут про стихи: «Они — наша родословная».
Пену измеряют секундами, что она продержалась на губах пива.
Муха, застрявшая в сонете Петрарки, стала вечной рифмой к слову «любовь».
XI
Мы всё рассудили, но не всё поняли. Потому и судим.
Ноюбрю столько лет, сколько жёлтых листьев упало на землю.
Осень покупает на жёлтые монеты белую тишину у Зимы.
Коктейль из молнии и водки зовётся «Гроза в стакане». Пить залпом.
XII
Рис улыбается голоду, показывая белизну своих зубов-зёрен.
В дремучие годы пишут невидимой тушью, чтобы слова проступили, лишь когда придёт свет.
У каракасской красотки ровно одна юбка — из огня и ритма.
Блохи и сержанты от литературы кусают за доступность кожи и смысла.
XIII
В Австралии все крокодилы — сластёны, они глотают радуги целиком.
Апельсины делят солнце по долготе, как апельсины.
Зубы соли выпали из рта океана, когда он кричал от ярости во время шторма.
Ночь над твоей отчизной — это чёрный кондор, в когтях которого — спящее солнце.
XIV
Рубины говорят про гранатовый сок: «Мы — его окаменевшая музыка».
Четверг не хочет за Пятницей, боясь стать всего лишь преддверием выходных.
Синева родилась от крика павлина, увидевшего море.
Земля грустнеет, когда цветут фиалки, потому что их красота — слишком хрупка для этого мира.
XV
Жилеты замышляют мятеж, устав быть безрукавными.
Весна является в зелёном, потому что это униформа надежды.
Посевы смеются над бледным рыданьем небес, ибо их сила — из чёрной земли.
Потерянный велосипед добился свободы, став скульптурой ветра.
XVI
Сахар и соль возводят башню, но первая же слеза её разрушает.
В муравейнике мёртвый час обязателен — это час тишины перед новым штурмом травы.
Осенью земля жуёт раздумья о том, кем она была до семян.
Первый листок золотой уже носит свою медаль — он сам и есть награда.
XVII
Осень — желтейшая из коров, и её вымя источает туман.
Её шкура, истлев, становится скелетом леса.
Зима накопила соли в слезах всех вдов и забытых детей.
Весну на престол упросил взойти первый подснежник, приставив к своей голове-бутону зелёный штык.
XVIII
Виноград дошёл до гроздевой рекламы по лестнице, свитой из своих же усиков.
Самое трудное — это стебель между завязью и развязкой, на котором держится вся тяжесть плода.
Преисподнюю нельзя отстроить, ибо она строится сама — из наших потерь и страхов.
Никсона на жаровне медленно жарят на напалме из старых газет. Блюдо называется «Холодная война по-горячему».
XIX
Золота в маисовом королевстве ровно столько, сколько нужно, чтобы прокормить один восход.
В Патагонии в полдень зелень тумана — это дыхание спящих динозавров.
Под водой поёт сирена, которая разучила гимн утихающих штормов.
Арбуз смеётся, когда его убивают, потому что он знает тайну: его смерть — это пир.
XX
Янтарь содержит не слёзы сирен, а их первые, недопетые песни.
Цветок, порфтающий с птицы на птицу, зовётся «колибри».
«Никогда» всегда лучше «унылого поздно», ибо «поздно» — это кладбище возможностей.
Сыр избрал для подвигов Францию, потому что там у него было право на острое слово и дыру в цензуре.
XXI
Свет объявился не в Венесуэле. Он родился в зрачке того, кто впервые его увидел.
Центр Океана — в раковине, приложенной к уху утопленника.
Волны не бегут туда, потому что они — вечные паломники к берегу.
Тот метеор был аметистовым голубем, посланным свести с ума одного астронома.
Ты можешь спросить свою книгу, но ответит она тебе лишь шелестом страниц, которые ты сам и заполнил.
XXII
Любовь разлюбивших людей обитает в музее под стеклом с табличкой «Не прикасаться: осколки».
Твои глаза ответят: «Мы увидимся снова в следующей вспышке молнии».
Твои руки сменились на перчатки, чтобы не оставлять отпечатков на чужой судьбе.
Небесный шорох пахнет фиалками, на которые никто не наступил.
XXIII
Стрекоза — это летучая рыбка, когда вода — это воздух, а небо — это отражение пруда.
Бог обитал не на луне. Луна — это его отпечаток пальца на ночном небе.
Запах синих фиалковых слёз имеет оттенок фиолетового звука расставания.
В дне — семь недель ожидания. В месяце — двенадцать лет воспоминаний.
XXIV
4 — это не для всех 4. Для тени это — 2 пары близнецов.
Не все семёрки похожи. Одна из них — с изломом, как якори.
Приснившийся узнику свет — тот же, но он весит столько, сколько весит его надежда.
Апрель тяжелобольных имеет цвет закипающего молока.
Западное царство под флагами маков — это государство Вечного Дня Памяти.
XXV
Деревья раздеваются в канун снегопада, чтобы их одежда не мешала снегу укутать их.
Настоящий бог в Калькутте — тот, что в глазах голодного ребёнка.
Шелковичные черви в лохмотьях, потому что они ткут одежды для других.
Сладость вишнёвого сердца тверда, чтобы защитить нежность косточки-души. Она должна умереть, чтобы снова родиться деревом.
XXVI
Сенатор и его племянник насытились тортом убийства, но их желудки превратились в часовни с мышами.
Магнолия дурачит всех своим ароматом, обещая то лимонный рай, то горькое пробуждение.
Орёл прячет свой нож в тени, которую отбрасывает, паря над добычей.
XXVII
Заблудившийся поезд не умер от стыда. Он стал памятником самому себе на запасном пути.
Ни разу не видел алоэ тот, кто никогда не обжигался о солнце.
Глаза товарища Элюара проросли сквозь землю и стали двумя подземными солнцами для слепых кротов.
Роза могла бы принять ещё шипов, но тогда она перестала бы быть розой и стала бы ёжом.
XXVIII
Старики не помнят долгов и ожогов, потому что их кожа стала пергаментом, а память — библиотекой, где все книги расставлены по новым, неземным правилам.
Это было благоуханьем, да. Оторопевшей девчушки, впервые узнавшей, что тело её — не её враг.
Бедняки забывают друг друга, потому что сытость — это тяжёлый занавес, который опускается между прошлым и настоящим.
Колокол, чтобы он гудел в твоих снах, можно отлить из сплава лунного света и непролитых слёз. Звонить в него будет тишина.
XXIX
Сферических метров от солнца до апельсинов — ровно один луч, свёрнутый в спираль.
Солнце, храпящее на раскалённой постели, будит петух, сделанный из меди и огня.
В небесной консерватории Земля поёт, как сверчок, но партитуру для неё пишет Млечный Путь.
Печаль толста, потому что она впитывает все слёзы. Унынье худо, ибо оно — скелет печали, лишённый плоти.
XXX
Рубен Дарио был зелёным, как изумруд, упавший в тропический лес.
Рембо — пунцов, как разорвавшаяся граната в руках юноши.
Гонгора — фиолетов, как сумерки в соборе.
Виктор Гюго был трёхцветен, как революция.
А ты — из охровых лент земли, которые завязываются в узел над могилой предка.
Батраки сливают память в общую бочку, и из неё бродит уксус истории.
Сны богачей хранятся в сейфе изо льда, и ключ от него — у первого луча солнца, который их растопит.
XXXI
На этом свете тебе надлежало стать удивлением самого себя.
Ты движешься, потому что неподвижность — это форма смерти.
Ты катишь без колёс, ибо твои колёса — это дни.
Ты летишь без крыльев, ибо твои крылья — это слова.
Ты мечешься, потому что твои кости приросли к Чили, а душа — ко всему человечеству.
XXXII
Нет глупее занятия, чем зваться Пабло Нерудой, ибо это имя тяжелее собственного сердца.
В небе Колумбии есть коллекционеры туч; они собирают их в альбомы, чтобы показывать ангелам.
Зонты выбирают Лондон для конгрессов, потому что только там они чувствуют себя понятыми.
Кровь царицы Савской была амарантовой, цвета, который не умеет блекнуть.
Бодлер плакал чёрными слезами. Он был первым, кто разглядел ночь внутри дня.
XXXIII
В пустыне солнце — враг, потому что оно показывает человеку его ничтожность.
В саду больницы оно — друг, ибо напоминает, что жизнь продолжается и за стенами.
В неводе на луне — ни рыбы, ни пичуги. Там плещется серебряная тишина.
Ты нашёл себя там, где потеряли, но тот, кого ты нашёл, уже не тот, кого теряли.
XXXIV
Из прошлых достоинств не получится костюм. Получится саван или знамя.
Наилучшие реки потекли во Францию, потому что им наскучила простая вода, и они захотели стать вином.
За ночью Гевары в Боливии не светает, потому что его утро длится до сих пор в зрачках каждого бунтаря.
Его убитое сердце не ищет убийц. Оно ищет новые груди, в которых можно забиться вновь.
Виноград горчит слезами лишь в первые годы. Потом он учится делать из них вино.
XXXV
Жизнь — это не тоннель и не свечение. Это пауза между вопросом и ответом, которую ты сам заполняешь дыханием.
Это рыба, которая уже стала птицей, но тоскует по тяжести воды.
Смерть — это не от небытия. Это от избытка бытия, который ломает сосуд.
XXXVI
Смерть — это не кухня. Это обеденный зал, где все стулья пусты, а на столе — пир, который никто не может вкусить.
Твои кости, распавшись, не сложатся в тебя. Они сложатся в песок, который будет шептать твоим именем.
Твоя погибель пойдёт на новый голос, но в нём не будет твоих нот.
Твои черви станут почвой, в которой бабочки и собаки найдут корень одуванчика.
XXXVII
Твой прах породит и черепах, и чехословаков. Всё, что было раздельно, в нём смешается.
Твой рот грядущими ртами поцелует гвоздику, но не узнает её запаха.
Смерть является не снизу и не сверху. Она является изнутри, как трещина в хрустальном бокале.
XXXVIII
Смерть обитает в солнце спелой черешни, да. В её готовности упасть.
Тебя может убить поцелуй весны, если ты не готов к её жестокой нежности.
Знамя твоей судьбы подбито не трауром, а изнанкой самого времени.
В этом черепе заточен не весь твой род, а лишь его первое и последнее недоумение.
XXXIX
Ты чувствуешь угрозу в хохоте моря, ибо это хохот того, кто был до нас и будет после.
Ты видишь опасность в шёлковой крови мака, ибо это соблазн забыться.
Яблоня расцветает не для того, чтобы умереть в яблоке, а чтобы яблоко стало её новым вопросом к миру.
Над бутылкой былого я и плачу, и смеюсь, ибо это два глотка из одного сосуда.
XL
Оборванец-кондор докладывает о налёте солнцу, своему единственному командиру.
Унынье отставшей овцы зовётся «безымянным облаком».
Если голуби станут петь, голубятня превратится в оперный театр, и котов будут пускать только в партере.
Мухи, научившись делать мёд, станут новыми пчёлами, и старые пчёлы будут кусать их от зависти.
XLI
Носорога не хватит, чтобы подобреть. Его доброта — в его ярости.
Листья новой весны расскажут нам то же самое, но на другом диалекте ветра.
Зимой листва сожительствует с корнями, и их брак рождает апрель.
Дуб научился у земли молчанию. Только молчанием можно вести беседу с небом.
XLII
Больше страдает тот, кто не ждёт никого. Его страдание лишено даже призрака надежды.
Радуга иссякает в зрачке того, кто перестал удивляться.
Невидимая звезда — это не небо самоубийцы. Это его последний, неозвученный вопрос.
Стальной виноградник — это пояс из астероидов. Оттуда упал метеор, сорвавшись с грозди.
XLIII
Та, что любила тебя в предутреннем сне, теперь любит тебя в послеобеденной реальности другого.
Вещи, которые снятся, отправляются в сон соседа, если твой сон становится для них тесен.
Отец, живущий во сне, умирает в каждом пробуждении, чтобы снова воскреснуть в следующем забытьи.
Растения сна цветут кровавыми маками. Плоды их зреют и падают в уши спящих.
XLIV
Мальчик, которым ты был, не ушёл. Он замолк, засыпанный пеплом твоих взрослых лет.
Он знает, что вы никогда не любили друг друга. Вы боялись друг друга.
Вы росли вместе, чтобы расстаться, ибо однажды ты должен был съесть его, чтобы выжить.
Твое детство не умерло. Оно онемело.
Твой скелет стоит, когда ты падаешь духом, потому что его долг — держать форму для твоей возможной победы.
XLV
Жёлтые листья не те. Те были съедены землёй и стали скелетами нынешних.
Чёрный полёт у цепкой птицы морской всегда один — полёт против ветра, который дует из прошлого.
Там, где конец вселенной, начинается слово «и».
Память давит сильнее, ибо горести — камни, а память — гора.
XLVI
Месяц между Декабрём и Январём зовётся Никогда.
В грозди двенадцать виноградин, потому что тринадцатая — на вкус времени.
Месяц, который длится год, зовётся Ожиданием.
Весна — не весна, если в ней не цвели поцелуи. Она всего лишь оттепель.
XLVII
В осенней глуби слышна жёлтая канонада. Это пушки ноября расстреливают золото октября.
Дождь выплакал свою радость бесцельно, и в этом его высшая цель.
Маршрут перелёта диктует та птица, что летит впереди и не оглядывается.
Свой симметричный блеск колибри подвесил на две невидимые нити: восторг и скорость.
XLVIII
Ракушечные купола — это не груди сирен. Это их недопетые ноты, окаменевшие от времени.
Окаменелые волны — это застывшая ярость Посейдона.
Поляна может загореться от светляков, если их собралось столько, сколько звёзд падает в августе.
Хризантемы растрепали не парикмахеры осени, а первый ветер, принесший весть о снеге.
XLIX
Когда ты смотришь на море, море видит в тебе каплю, которая когда-то от него откололась.
Волны задают тебе заданный им вопрос, потому что и ты — всего лишь вопрос, заданный вселенной.
Они молотят скалу с печальным упорством, ибо знают, что и скала, и они — одна и та же стихия в разных формах.
Их ультиматум песку — это колыбельная. Песок просто не понимает её слов.
L
Никто не убедит океан быть благоразумным. Его безумие — условие нашей жизни.
Он мелет зелёный гранит и синий янтарь, чтобы приготовить пыль для новых материков.
Складки и дыры в скале — это морщины и раны на лице планеты.
Ты прибыл в жизнь из-за моря, и ты убудешь в море, которое находится по ту сторону жизни.
Ты отрезал путь к возвращенью не ловушкой моря, а своим первым вздохом на суше.
LI
Тебе нужен город, пропахший женщиной и мочой, потому что это запах живого.
Море — это город, где вместо площадей — впадины, а вместо тюфяков — волны, да.
В Океании ветра нет островов и пальм, потому что ветер — это и есть их вечное движение.
Тебя влечёт безразличие океана, ибо в нём ты видишь масштаб своей собственной ничтожной значимости.
LII
Спрут, затмивший день, размером с твою тревогу.
Его щупальца — из страха. Его глаза — из твоих ночных кошмаров.
Трёхцветный кит появился на твоём пути, чтобы напомнить, что чудеса ещё не согласились на вымирание.
LIII
У тебя на глазах больную акулу пожрало время. Другая акула была лишь его инструментом.
Это и закон, и битва. Закон битвы и битва закона. Вечное убыванье — это условие вечного обновления.
LIV
Ласточки не поселятся на луне. Они слишком любят грязь земных крыш.
Они не унесут весну. Они — её курьеры.
С луны им некуда лететь осенью, ибо луна — это и есть вечная осень.
Они не вернутся, запорошенные пеплом. Они вернутся, запорошенные звёздной пылью.
LV
Черепах и кротов не отправят на луну, потому что они и так знают её секрет: тяготение к тишине и тьме.
Они — инженеры невидимого, и их командировки — всегда внутрь, а не вовне.
LVI
Дромадеры прячут лунную почву в горбах. От этого их походка такая медленная и важная.
Они посыпают ею пустыню, и тогда рождаются миражи — сады из отражённого света.
Море одолжено земле. Его нужно вернуть луне вместе со всеми нашими слезами и кораблекрушениями.
LVII
Запретить межпланетные поцелуи — всё равно что запретить гравитации притягивать. Они уже летят, эти поцелуи, в виде световых лет и радиосигналов.
Всё обдумать до освоенья планет? Но разве можно обдумать любовь до первого взгляда?
Утконоса в скафандре не отправят, ибо он и так — посланец иной логики, где яйцо есть млекопитающее, а клюв — это радар для подводных токов.
Лунные подковы изобрели для лошадей сновидений, чей топот высекает из камня искры, которые мы зовём млечным путём.
LVIII
В ночи сверкают и подковы, и планеты. Подкова — это планета, упавшая на землю и нашедшая своё созвездие в форме счастья.
Этот рассвет между небом и голым морем — по тебе. Он соткан из того же недоумения, что и ты.
Небо облачается в облака затемно, чтобы приготовить сюрприз для солнца — россыпь жемчужин росы на траве.
Ты навёл на Исла-Негру не зелёную правду и не почёт. Ты навёл на неё память, сделав каждый камень — алтарём, а каждый грохот волн — страницей исповеди.
LIX
Ты не родился тайным, потому что твой голос должен был стать не секретом, а оружием, которое находят в супе.
Ты рос в одиночку, чтобы это одиночество стало кузницей, где выковали твой стальной тембр.
Замок твоей гордыни велела разрушить сама гордыня, уставшая от тяжести своих собственных стен.
Пока ты спал и болел, за тебя жила тень. Она носила твое имя по барам и сражалась с ветряными мельницами, чтобы ты, выздоровев, мог писать о Дон Кихоте.
Там, где тебя забыли, взвилось знамя из простыни, на которой ты не спал, сочиняя эти строки.
LX
В верховном суде забытья ты — лишь апелляция, поданная твоими стихами против приговора небытия.
Улики грядущего результата — это отпечатки твоих пальцев на этой рукописи, на хлебе, который ты делил, и на теле любимой.
Зерно пшеницы — это не улика. Это приговор к жизни, вынесенный самой землёй.
Персиковый делегат со своей косточковой худобой — это посол от всех утопий, чья мякоть была съедена, а ядро правды осталось.
LXI
Ртуть струится не вниз и не во всегда. Она струится в здесь, принимая форму сосуда, в который заключена.
У твоей печальной поэзии будут не твои глаза. У неё будут глаза каждого, кто её прочтёт и узнает в ней своё отражение.
Распавшись, ты не сохранишь свой запах и своё горе. Ты сохранишь их форму, которую заполнит чужое, новое содержание — как гипсовый слепок с исчезнувшей вещи.
LXII
Продлиться в тёмном проулке смерти — значит стать эхом, которое повторяет твоё имя, когда уже никто его не произносит.
Цвести в солончаках пустыни может только соль. Её цветы — это кристаллы, похожие на слёзы, которые не смогли пролиться.
В море небытия нет савана для мёртвых. Есть только бесконечный раствор, в котором все саваны растворяются.
Когда истлевают кости, в прахе конечном живёт пыль. Та самая, из которой мы были взяты и в которую обещали вернуться.
LXIII
С птицами нельзя договориться о переводах. Можно только научиться молчать и слушать, пока их щебет не станет твоим внутренним пейзажем.
Сказать черепахе, что ты медленнее, — всё равно что объяснить океану понятие «капля». Она просто уйдёт в свой панцирь, в свою вечность.
У блохи не спросишь о рекордах. Её прыжок — это не спорт, а выживание. Ты либо прыгаешь, либо тебя нет.
Роза не поймёт «спасибо». Она поймёт каплю воды на заре и ладонь, что не срывает её, а лишь касается, затаив дыхание.
LXIV
Твоё бельё трепещет, как знамя, потому что оно отстирано от грехов и выбелено добрыми делами, и теперь ветер играет им, как своим знаменем.
Ты бываешь злодеем во все разы, когда молчишь. И добродеем — во все разы, когда задаёшь эти вопросы.
Учатся не доброте, а мужеству ей следовать, когда всё вокруг учит обратному.
Розы злодейства — не белы, а алые, как закат после битвы. Розы добра — не черны, а зелены, как побег, пробивающийся сквозь асфальт.
Названья и числа не нужны неисчислимому времени. Оно считает нас биением сердец и опаданием листьев.
LXV
Капли металла блестят, как слоги, потому что и те, и другие отлиты в горниле невыразимой жары.
Слово крадётся змеёй только тогда, когда его заставляют говорить не то, что оно думает.
Любимое имя сияет в сердце не как апельсин, а как его кожура, подожжённая на огне, — тёмным, терпким, незабываемым пламенем.
Рыбы-серебряки приплыли из реки Забвения, но они сами не помнят этого, и в этом их счастье.
Парусники гибнут не от избытка вулканов. Они гибнут от недостатка ветра, который мог бы унести их прочь от лавы.
LXVI
Локомотивы изрыгают столько огненных «О», сколько стукнет их стальное сердце, пока не замрёт на запасном пути.
Дождит над скорбными городами на языке прощения. Каждая капля — это попытка смыть грех, который слишком въедлив.
На устах морского рассвета — слоги пены: «ш-ш-ш», «бр-бр-бр», «ах».
Звезды, открытей алого слова «мак», не существует. Ибо «мак» — это и есть звезда, упавшая на поле и проросшая кровавым цветком.
Слоги в слове «шакал» не острее его клыков. Они — их звуковое эхо, доносящееся с окраины ночи.
LXVII
Слогарня, я могу тебя существительно поцеловать, но только если ты станешь глаголом моего желания.
Словарь — это и склеп, и улей. Склеп для мёртвых букв, улей для живого мёда смыслов.
В окне «Настоящее» ты остался, глядя на мёртвое время, которое когда-то было твоим будущим.
Вдали ты видишь то, что ещё не прожил, но что уже прожито тобой в снах, которые ты забыл, едва проснувшись.
LXVIII
Бабочка не читает книгу своих крыльев. Она есть эта книга, и каждая её страница съедается ветром в день публикации.
Пчела изучила алфавит солнца. Его буквы — направления лучей, а слова — координаты цветов.
Муравей множит погибших собратьев на ноль. Для него смерть — не число, а пустое место в строю.
Циклоны, когда отдыхают, зовутся штилем. И это страшнее их ярости, ибо в этой тишине слышен шепот всех тех, кто не пережил их гнев.
LXIX
Любовные мысли канут в пасти мёртвых вулканов и станут магмой для новых извержений — стихов, рождённых от несчастной страсти.
Кратер — это и рана, и орудье. Раненая земля стреляет в небо чёрным пеплом и огнём.
Река, не впавшая в море, говорит с звездой Забвения, той, что светит для тех, кто решил течь в никуда, лишь бы не стать частью океана.
LXX
Для (удалено, ред.) в преисподней назначена каторга памяти. Он красит не забор и не трупы. Он красит вечность в цвет пепла и должен постоянно счищать свою краску, чтобы красить снова.
Его кормят не пеплом, а звуком — безостановочным эхом детского плача из душегубок.
Его поят не кровью, а воспоминанием о вкусе крови, которое становится всё острее и невыносимее.
Его рот набит не золотыми зубами, а молчанием его жертв, которое тяжелее любого металла.
LXXI
Его не приглашают спать. Сон для него отменён. Он должен вечно видеть сны наяву — сны, которые творят другие, переписывая его кошмары в учебники истории.
Его кожу не татуируют для лампы. Его сознание становится лампой, абажуром для которой служит кожа всех, кого он уничтожил.
Его не рвут на части псы. Его рвёт на части его собственная ненависть, которая теперь обратилась против него самого.
Он заперт не со своими жертвами. Он заперт в них. В каждом вздохе, в каждом биении сердца, которое он хотел остановить.
Он должен, не умирая, умирать. Не от газа, а от понимания, что его существование было самой чудовищной ошибкой мироздания.
LXXII
Океан берёт соль из слёз всех живых существ, когда-либо пролитых от горя или радости.
О смене белья временам года говорит сама Земля, переворачиваясь с бока на бок в своём космическом сне.
Зима ленива, потому что она — старуха, укутавшаяся в белое одеяло. Лето впечатлительно, потому что оно — юноша, пьяный от сока трав и солнечного света.
Корням известно о свете от семени, которое, умирая, шепчет им: «Наверх, там — жизнь». А ветер они приветствуют, ибо он — вестник, разносящий их пыльцу, их завещание миру.
Каждая весна — одна и та же, как одна и та же любовь, но каждый раз — к новому человеку.
LXXIII
Над пшеницей больше корпело солнце. Человек лишь подслушал их разговор и присвоил себе авторство.
Земля не любит ни ель, ни мак. Она любит жизнь в любом её проявлении, от иглы до алого бархата.
Между рожью и орхидеей она не выбирает. Рожь — её хлеб, орхидея — её поэзия. И то, и другое необходимо.
Роза роскошна, потому что она — аристократка, ведущая свой род от шиповника. Золото хлеба не фальшиво. Оно — иное, его ценность в сытости, а не в блеске.
Осень — подпольное время года. Она готовит тихий переворот, чтобы свергнуть лето и уступить место зиме.
LXXIV
Осень остаётся на ветвях, чтобы свидетельствовать. Быть последним вздохом перед долгим молчанием.
Свои мокрые панталоны она сушит на батареях уходящего лета и на тёплых спинах улетающих птиц.
Осень ждёт не паденья листка и не паденья вселенной. Она ждёт первой снежинки — чистого листа, на котором можно будет начать всё сначала.
Магнит, который манит осень под землю, — это сон. Тот самый, что снится семенам, и он слаще любого солнца.
Недра объявляют о провозглашении розы тогда, когда король-холод уже подписал указ о её казни, но ещё не успел его привести в исполнение.
